Слышу тихо как больной с кровати спрыгнул нерв это
С Владимиром Маяковским я познакомился в школе. Конечно, не с ним самим, а с какими-то минимальными знаниями о его творчестве, к тому времени его уже давно не было. Хотя, понятие давно - очень относительно. Для молодых будет интересно сравнить цифры, которыми приходится оперировать, чтобы было понятно. Значит, было это скорее всего году в 1960-ом, Маяковского не было уже очень давно – целых тридцать лет, а состоялось моё знакомство с ним всего-то пятьдесят два года назад в восьмом классе школы. И чтобы уж совсем закрыть вопрос об относительности, скажу только, что моя бабушка родилась в 1899 году, и её отстояние от Пушкина всего шестьдесят два года, но с бабушкой своей я жил в одну эпоху, правда, сегодня уже закончившуюся, а Пушкин – в глубокой древности, в совсем непонятном. Не запутались? И это хорошо, что логика сбивается, и не может перепрыгнуть через самый простой расклад из цифр. Это тем более хорошо, что говоря о творчестве Владимира Владимировича Маяковского, придётся перепрыгивать, или увязать в барьерах не раз.
Конечно, эти строки я знал ещё до изучения в школе, и фамилию поэта тоже, а также то, что он неудобоваримый и совсем не поэтичный. Откуда? А откуда я знаю? Вам разве неизвестно, что вы не в состоянии назвать источник огромного количества ваших знаний? Знал, и точка. А всё остальное начал узнавать потом…
Мне очень повезло, в школе у нас был нормальный учитель литературы, вернее учительница, Юлия Николаевна. И Маяковский был у неё в числе любимых поэтов, поэтому я начал его читать. И чтение стихов Владимира Маяковского захлестнуло. Ещё бы, как могут не отозваться в душе подростка чеканные строки, зовущие переделать старый закостенелый и безнравственный мир.
И только уже потом что-то про жёлтую кофту и завораживающее.
И вдруг, почему-то странной барабанной дробью, совершенно случайно, и наверняка излишне, звучит метафора. Да, да! Ну, что же это может быть, кроме метафоры?!
«За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.
А, может, это тоже о любви? Наверно любовь есть всякая… Или… Впрочем, никогда не догадаться, что именно так и бывает, пока сам не окунёшься с головой. Но молодому предугадать сложно, можно только предполагать. Но как ни странно, любое предположение меркнет перед тем, во что вдруг попадаешь, совсем не предчувствуя ничего… И только пройдя через круги ада, что-то начинаешь понимать….
«…Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю -
запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты бы играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.
«…Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.
«Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду - красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходите учиться -
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
«Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце - холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая -
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любеночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.
Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала,-
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот,-
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы -
большие,
маленькие,
многие!-
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
А ночь по комнате тинится и тинится,-
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.
Вошла ты,
резкая, как "нате!",
муча перчатки замш,
сказала:
"Знаете -
я выхожу замуж".
Вот тут-то и собака!
Проще всего остановиться до этих слов и сделать вид, что не было этого. Или, что ещё стыднее, объявить, что талант гения оскудел и померк. Или совсем наоборот, вдруг уподобиться тем, кто совершенно бесстыдно исковеркал эти слова, вставив вместо Ленина другое имя, и размахивает тем, что потерпело крах.
Сложно уйти здесь от разговора о сегодняшнем дне, да пожалуй, уже уходить и не надо.
Уходит и через минуту возвращается вкупе с прочими нечистыми;
подходят к столу.
Учат!
Сколько ни дои акул -
не быть из акулы молоку.
Пора обедать!
Скорей кончай-ка!
Обратите внимание,
как это красиво:
волны и чайка.
Поговорим-ка лучше о щах и о чае.
К делу!
К делу!
Нам не до чаек.
Напирая, опрокидывают стол. На палубу грохаются пустые тарелки.
Швея и прачка
(грустно)
Всё совет министерский вылакал.
Плотник
(вскакивая на опрокинутый стул)
Товарищи!
Это нож в спину!
Товарищи!
Что ж это?
Раньше жрал один рот, а теперь обжирают
ротой?
Республика-то оказалась тот же царь, да
только сторотый.
Француз
(ковыряя в зубах)
И ещё, самое последнее, его крик души.
«Во весь голос
Первое вступление в поэму
Первая публикация: журнал "Книголюб" №3, 2014
Примечания
Облако в штанах (стр. 173). Черновой автограф не вошедшей в текст строфы и строк 717-724 (БММ); отрывки - в альманахе "Стрелец", П. 1915 (строки 21-26, 535-556, 575-611, 624-638); отрывки - в статье Маяковского "О разных Маяковских" - "Журнал журналов", П. 1915, август(строки 278-289, 304-347, 360-368, 404-409, 460-471); 1-е изд. поэмы; текст цензурных изъятий 1-го изд. - в экземплярах О. М. Брика и Л. Ю. Брик (1915); "Простое как мычание"; отрывки - в журн. "Новый сатирикон", П. 1917,? 11, 17 марта (строки 342-368, 435-471, 476-482); 2-е изд. поэмы; "Все сочиненное"; "13 лет работы", т. II; "Избранный Маяковский"; 3-е изд. поэмы; Сочинения, т. I; отрывки - в сб. "Школьный Маяковский" (строки 217-368, 435-495). Начало работы над поэмой относится к первой половине 1914 года. В автобиографии "Я сам" Маяковский говорит: "Начало 14-го года. Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над "Облаком в штанах". Закончена поэма была в июле 1915 года в Куоккала (под Петроградом). ". Вечера шатаюсь пляжем. Пишу "Облако" ("Я сам").
Выступая в марте 1930 года в Доме комсомола Красной Пресни, Маяковский вспоминал: "Оно ("Облако в штанах") начато письмом в 1913/14 году и сначала называлось "Тринадцатый апостол". Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: "Что вы, на каторгу захотели?" Я сказал, что ни в коем случае, что это никак меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это - вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили - как я могу соединить лирику и большую, грубость. Тогда я сказал: "Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите - буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах".
До выхода поэмы в свет отрывки из пролога и 4-й части появились в сборнике "Стрелец" (февраль 1915 г.) и несколько строф из 2-й и 3-й частей было процитировано в статье Маяковского "О разных Маяковских" в "Журнале журналов" (август 1915 г.). И в сборнике и в журнале поэма была названа "трагедией", а затем в отдельном издании Маяковский дал ей подзаголовок "тетраптих" (т. е. композиция из четырех частей).
Выход сборника "Стрелец" был отмечен вечером, устроенным в артистическом подвале "Бродячая собака" 25 февраля 1915 года. На этом вечере, где присутствовал М. Горький, Маяковский прочел отрывок из поэмы. Следует упомянуть также чтение отрывков поэмы Горькому в июле 1915 года. Первое издание поэмы было выпущено О. М. Бриком в сентябре 1915 года. Оно содержало большое количество цензурных купюр. "Облако" вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек" (см. "Я сам").
Цензурой были изъяты: во 2-й части строки 250-253, 323-335, 348-355, 360-363; в 3-й части - строки 456-459, слова "под ножами" в строке 467 ("Пускай земле под ножами припомнится"), 474-475, 501-505; в 4-й части - строки 620-623, 630, 668-708. Кроме того, в ряде строк были изъяты отдельные слова: "богоматерь", "евангелие", "апостол", "Иисус Христос", "господин бог".
В 1916 году поэма была перепечатана в сборнике "Простое как мычание" (изд. "Парус", руководимое М. Горьким) с меньшим, но все же значительным числом цензурных изъятий. После свержения самодержавия Маяковский напечатал в журн. "Новый сатирикон", ? 11, 17 марта 1917 года не пропущенные ранее цензурой отрывки из 2-й и 3-й частей поэмы под заглавием "Восстанавливаю" и со следующим предисловием: "Моя книга "Облако в штанах" была послана в цензуру под первоначальным названием "Тринадцатый апостол". Помещаю из этой изуродованной в первом и кастрированной во втором издании книги - 75 строк". Полностью с восстановлением всех изъятых цензурой мест поэма вышла в начале 1918 года в Москве под маркой организованного Маяковским издательства "Асис" (Ассоциация социалистического искусства). В предисловии к этому изданию Маяковский писал: "Облако в штанах" (первое имя "Тринадцатый апостол" зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся) считаю катехизисом сегодняшнего искусства; "Долой вашу любовь", "долой ваше искусство", "долой ваш строй", "долой вашу религию" - четыре крика четырех частей.
Строки 83-84. Химеры Собора Парижской богоматери - изваяния мифических чудовищ на здании собора.
Строка 132. Джиоконда - знаменитая картина Леонардо да Винчи - женский портрет. В 1911 году картина была украдена из Лувра; в 1913 году возвращена в музей.
Строки 144-145. Помпея - город, расположенный у подножия вулкана Везувий, был разрушен во время извержения Везувия в I веке до н. э.
Строка 202. "Лузшпания" - пассажирский пароход, торпедированный германской подводной лодкой 7 мая 1915 года и сгоревший в открытом море.
Строка 307. Заратустра - мифический создатель религии в древнем Иране. У Маяковского это имя употреблено в нарицательном смысле - глашатай, проповедник.
Строка 312. Лепрозорий - изолированное убежище для прокаженных.
Строка 329. Голгофы аудиторий. - Маяковский имеет в виду свою поездку по городам России в конце 1913 - начале 1914 года. Буржуазная пресса встречала выступления Маяковского руганью и издевательствами.
Строка 380-381. Сквозь свой до крика разодранный глаз. - Д. Бурлюк был слеп на один глаз.
Строка 395. Пейте какао Ван Гутена. - Маяковский имел в в виду факт, о котором писали тогда газеты: приговоренный к смерти согласился крикнуть в момент казни: "Пейте какао Ван Гутена!" За это рекламное выступление фирма Ван Гутен обещала большое вознаграждение семье казненного.
Строка 455. Галифе - генерал, жестоко расправившийся с парижскими коммунарами в 1871 году.
Строки 492-493. Пирует Мамаем, задом на город насев. - Здесь речь идет о победителях, которые пировали, сидя на досках, положенных на тела побежденных. В действительности так пировал не хан Золотой Орды Мамай, а полководцы Чингисхана после битвы на Калке в 1223 году.
Строка 495. Азеф - провокатор, работавший в эсеровском подполье. Имя его стало синонимом предательства.
Строка 505. Варавва - по евангельскому преданию, разбойник, осужденный в тот же день, что и Христос. Толпа требовала от судей помилования Вараввы и казни Христа.
Строка 582. Пресня - улица в Москве, где жил Маяковский.
Строка 616. Тиана - женское имя из одноименного стихотворения И. Северянина.
Строка 653. Иродиада. - По евангельскому преданию, танцевала вокруг блюда с головой казненного проповедника Иоанна Крестителя не Иродиада, а ее дочь Саломея.
Строка 674. Ки-ка-пу - модный в то время эстрадный танец.
Строка 692. Севрские вазы - вазы знаменитого фарфорового завода в Севре (Франция).
муча перчатки замш,
Видите — спокоен как!
которую надо украсть!
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
![]()
песня. План Ломоносова - Резкая как нате! (В.Маяковский "Облако в штанах" )
аналогичное в прочтении Петрова
Ну и как бэ мне кажется, этот отрывок понимается лучше теми, кто оказывался в схожих ситуациях в жизни
План Ломоносова отлично исполнили, а вот Петров что то не зашел =\
По мне вот это больше похоже на Маяковского да и вообще на стихи.
План Ломоносова тоже хорош но все-же другой жанр.
А что Петров что Овсянников не стихи читают
Смехов да. Я весь его цикл посмотрел запоем. Эрдмана открыл для себя :)
Зашла ради ссылки на План Ломоносова)
И в пролёт не брошусь, и не выпью яду
Согласен, видео в посте хуйня, План Ломоносова сделали как надо)
Как говорил Маяковский:
А это что? Как будто прыжок в пропасть, а не история жизни
Уже сто лет прошло, а он до сих пор светит. Гений, одним словом.
зачем коверкать слова? Ну уже с бумажки прочитай=( Последнюю рифму просрал
Тут, скорее, оговорки по фрейду. Подсознание подкидывает другие слова. ;)
Вошла ты трезвая
Помню в школе чтобы не готовится к урокам преподаватель нам задавала тупо три дня подряд выучить стихи Маяковского размером в 1,5 страницы каждый . С тех пор меньше всего я подумаю читать Маяковского
Для меня стихи Маяковского выглядят как "абырвалбджджад". Его последователи пишут песни подобные: "я крокодил, крокожу и буду крокодить".
для меня примерно так же)
Хорошо прочитал, поставил плюсик. Спасибо.
До сих пор жизненно

![]()
Современные стихи
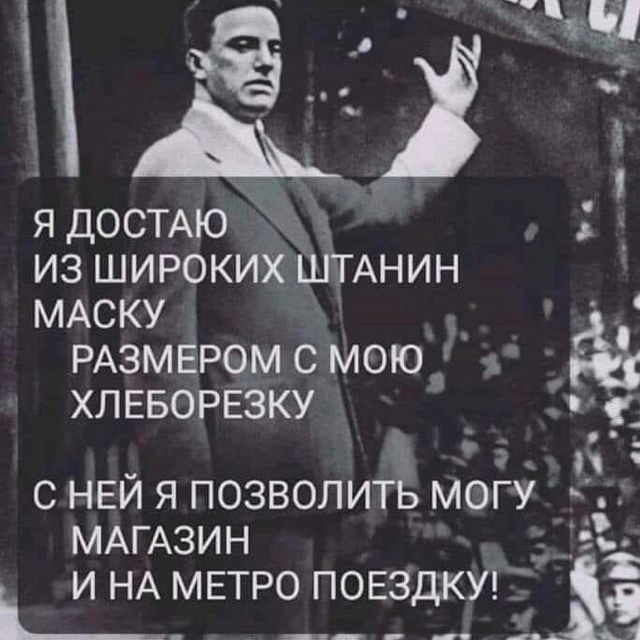
![]()
Хорошее отношение к лошадям
Я люблю стихи Маяковского. 20-30 минут назад решил на ютубе найти старое видео, где актер Виктор Логинов читает "Хорошее отношение к лошадям". Видео с Логиновым не нашел, но оказалось, что много разных актеров читают этот стих по-разному.
Я приведу здесь несколько вариантов.
Я сам всегда читаю его как Смехов. Мне кажется это исполнение естественным.
Но вот как его читает Максим Аверин. Это меня поразило и задело. А еще то, что он уже седой.
Задевает не мимика лица в конце, а с какой он декламирует.
А вот так читает Петр Фоменко. Мне показалось блеклым, но он режиссер и педагог. Наверное, ему виднее.
а вот это выступление меня тоже чем-то зацепило. Не знаю почему. Достаточно душевное. Не смог его отложить.
![]()
8 января 1878 года – Умер Николай Алексеевич Некрасов

8 января 1878 года (по новому) – Умер Николай Алексеевич Некрасов.
В начале 1875 года Некрасов тяжело заболел и скоро жизнь его превратилась в медленную агонию.
В диагностическом плане вначале высказывались разные предположения, ломали голову довольно долго, но со временем становилось все более очевидным, что речь идет о раковой опухоли толстой или прямой кишки.
Рисунок Ивана Крамского
В начале декабря 1876 года больного консультировал работавший тогда в Медико-хирургической академии профессор Николай Склифосовский, который при пальцевом исследовании прямой кишки отчетливо определил новообразование - ". в окружности верхней части прямой кишки находится опухоль величиной с яблоко, которая окружает всю периферию кишки и, вероятно, причиняет ее приращение к крестцовой кости, отчего эта часть кишки неподвижна; соответственно месту этой опухоли находится весьма значительное сужение кишки, сужение кишки весьма значительно так, что верхушка пальца едва в него проникает"
В общих чертах Николай Алексеевич был ознакомлен со своей болезнью и понял, что речь идет о серьезном заболевании. Настроение его ухудшилось. Врачи стали увеличивать дозу опия, но Н.А.Некрасов относился к этому очень негативно, так как боялся что это повлияет на его умственные способности, а он использовал малейшую возможность для литературной работы - продолжал писать стихотворения.
К этому времени относятся такие его строки:
О Муза! наша песня спета.
Приди, закрой глаза поэта
На вечный сон небытия,
Сестра народа - и моя!
Применявшееся лечение оказывалось все менее и менее эффективным. Больной тяжело страдал. 18 января 1877 г. Некрасову был приглашен хирург проф. Е.И.Богдановский. К нему обратился сам больной поэт.
4 апреля 1877 г. хирурги Н.И.Богдановский, С.П.Боткин и Н.А.Белоголовый предложили Н.А.Некрасову делать операцию и назначили ее на 6 апреля. Операцию было доверено провести Е.И.Богдановскому.
Похороны Некрасова. Рисунок А.Бальдингера
Когда только впервые встал вопрос об операции, сестра поэта А.А.Буткевич обратилась через знакомого в Вене к известному хирургу профессору Теодору Бильроту с просьбой приехать в Петербург и сделать операцию брату. 5 апреля пришло согласие Т.Бильрота, за приезд и операцию он запросил 15 тыс. прусских марок. Готовясь к возможному приезду венского хирурга, Н.А.Некрасов пишет брату Федору: ". немедля пришли деньги, кроме 14 тыс. по векселям, за тобой 1 тыс. процентная. Весь твой Ник. Некрасов" (12 марта 1877 г.) .
Лечившим больного врачам, в том числе и Е.И.Богдановскому, пришлось согласиться с принятым решением и ожидать приезда Т.Бильрота, хотя они отчетливо понимали экстренную необходимость в разгрузке кишечника oneративным путем. Профессор Т.Бильрот прибыл в Петербург вечером 11 апреля 1877 г. и его ознакомили с историей заболевания. 12 апреля он осмотрел больного и переговорил с Е.И.Богдановским о некоторых приготовлениях к операции и о времени вмешательства, которое они согласованно назначили на 13 ч.
Напрасно был выписан из Вены Бильрот; мучительная операция ни к чему не привела.
Вести о смертельной болезни поэта довели популярность его до высшего напряжения. Со всех концов России посыпались письма, телеграммы, приветствия, адресы. Они доставляли высокую отраду больному в его страшных мучениях. Написанные за это время "Последние песни" по искренности чувства, сосредоточившегося почти исключительно на воспоминаниях о детстве, о матери и о совершенных ошибках, принадлежат к лучшим созданиям его музы.
В декабре состояние больного довольно быстро стало ухудшаться, хотя колостома функционировала без каких-либо осложнений, лишь иногда наблюдалось небольшое выпадение слизистой оболочки. Вместе с тем, наряду с усилением общей слабости и исхуданием, появились постоянные и нарастающие боли в ягодичной области слева, припухлость и крепитация на задней поверхности бедра до коленной области, отеки на ногах. Периодически возникал озноб. Из прямой кишки стал выделяться зловонный гной.
14 декабря наблюдавший больного Н.А.Белоголовый определил, как он записал, "полный паралич правой половины тела". Больной был осмотрен С.П.Боткиным. Сознание и речь были еще сохранены. С каждым днем состояние прогрессивно ухудшалось, появились симптомы приближающейся смерти. Больной очень страдал.
26 декабря Николай Алексеевич поочередно подозвал к себе жену, сестру и сиделку. Каждой из них он сказал едва различимое "прощайте". Вскоре сознание покинуло его, и через сутки, вечером 27 декабря (8 января 1878 г. по новому стилю) Некрасов скончался.
30 декабря несмотря на сильный мороз, многотысячная толпа провожала тело поэта от дома на Литейном проспекте до места вечного его успокоения на кладбище Новодевичьего монастыря.
Похороны Некрасова, сами собой устроившиеся без всякой организации, были первым случаем всенародной отдачи последних почестей писателю.
Уже на самых похоронах Некрасова завязался или, вернее, продолжался бесплодный спор о соотношении между ним и двумя величайшими представителями русской поэзии - Пушкиным и Лермонтовым. Ф.М. Достоевский, сказавший несколько слов у открытой могилы Некрасова, поставил (с известными оговорками) эти имена рядом, но несколько молодых голосов прервали его криками: "Некрасов выше Пушкина и Лермонтова"…
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огро?мив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходи?те учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!
Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.
Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.
Полночь, с ножом мечась,
догна?ла,
зарезала,—
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот,—
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы —
большие,
маленькие,
многие!—
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
А ночь по комнате тинится и тинится,—
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей за?гиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен,—
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,—
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний,—
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!
Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!
Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.
Улица му?ку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi и костлявые пролетки
грудь испешеходили.
Чахотки площе.
Город дорогу мраком запер.
И когда —
все-таки!—
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хо?рах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!
Нам, здоровенным,
с шаго саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!
Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!
Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!
Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъя?звили проказу,—
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!
Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!
Видели,
как собака бьющую руку лижет?!
Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
ра?спял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!
И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!—
и окровавленную дам, как знамя.
Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!
Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.
И эту секунду,
бенгальскую,
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на.
А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!
Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкая,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.
Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!
Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом гря?зненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.
Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.
На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.
Ничего не будет.
Ночь придет,
перекусит
и съест.
Видите —
небо опять иудит
пригоршнью обгрызанных предательством звезд?
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!
Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу — глаза круглы,—
глазами в сердце въелась богоматерь.
Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Может быть, нарочно я
в человечьем меси?ве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.
В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске,—
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять!—
черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да!—
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да!—
из опущенных глаз водосточных труб.
Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет;
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.
Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.
Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!
Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.
Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!
Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.
Мария —
не хочешь?
Не хочешь!
Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.
Кровью сердце дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.
Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бо?к,
наклонюсь
и скажу ему на? ухо:
— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по? столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи,—
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из сервской му?ки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова,—
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою?
отсюда до Аляски!
Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.
Читайте также:


